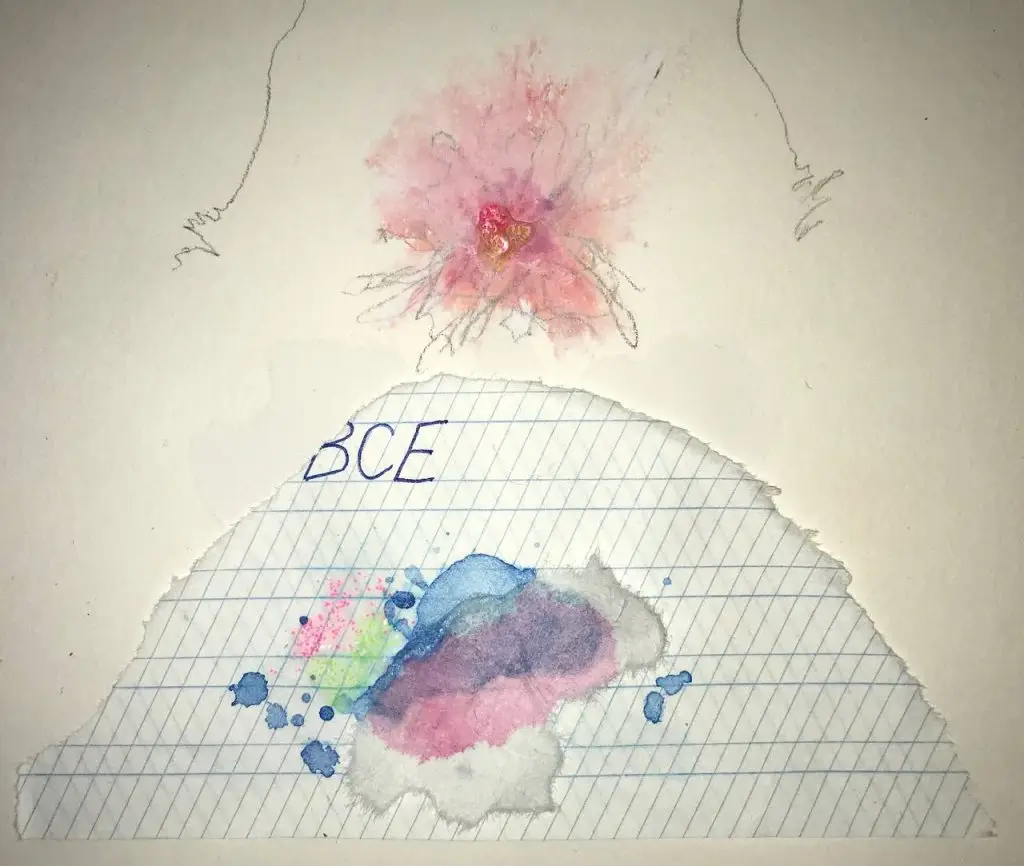В этом маленьком домике где я тут пр
— В 2022-м году, в тех разорванных остатках литературного процесса России, ты стала событием: ворвалась будто бы из ниоткуда, и притянула на себя много внимания от именитых критиков — а чем ты занималась до этого? В какой момент Варвара Недеогло стала «анархоцаревной русского поля штанов»?
— Мне важно начать с того, что я не являюсь частью «литературного процесса», — как и какого—либо ещё процесса, — и прилагаю к тому вполне конкретные усилия. Мне одинаково тошно и быть, и называться — «публичным лицом», «писательницей», «интеллектуалкой», «событием литературного процесса» или чем угодно еще в этом роде. В любой ситуации я предпочту быть русской*девочкой—медоедкой или висеть в воздухе, как фиолетовая дрожащая стрекоза.
До 2022-го года я вообще не могла себе представить, что я когда—нибудь буду стихи писать. Я до сих пор не могу привыкнуть, что у меня типа есть книжка, и когда я смотрю на нее, я вижу в мире дыру прямоугольной формы. А в проекте она возникла исключительно в силу смешного и идиотского довольно стечения обстоятельств.
В конце апреля 2022-го я зачем—то ругалась в фэйсбуке с Лошаком и Красильщиком. Меня чудовищно бесила заносчивость, с которой они прямо вот сразу же взяли на себя право говорить от лица так называемой, господи прости, «русской* нации», называть людей, многие из которых выросли в непредставимой для них нищете (я говорю не только о нищете материальной), «орками» и «дегенератами». Вместо того, чтобы, например, рефлексировать собственное банкротство в качестве культурных работников, интеллигенции и просто очень привилегированного класса (вообще, если бы у людей, представляющих этот класс, не оказалась бы кишка слишком тонка, чтобы взять на себя в начале войны реальную собственную ответственность, не размазывая ее вместо этого по «народу» в максимально демофобской манере, этого банкротства, кстати, с большой вероятностью удалось бы избежать).
В процессе Лошак спросил меня, кто я вообще такая, чтобы говорить с таким апломбом, и «из—под какого пня я вылезла». Скриншоты с этими комментариями выложил в свой канал один журналист, и там их увидел Денис Куренов, которому тоже стало интересно, из под какого пня я вылезла. После этого он, выйдя на мои тексты, связался со мной и предложил сделать книжку.
В общем, меня на самом деле абсолютно устраивает этот вопрос, и покидать свои метафизические пни я не собираюсь. Перефразируя Антона Павловича Чехова, это пни на моей шее, и я иду с ними на дно, но я люблю эти пни и жить без них не могу.
![]()

— А чем ты занималась до 2022-го года?
Я выросла в многодетной семье, с которой мне просто чудовищно повезло, потому что родители вкладывали в меня, сестру и брата какое то колоссальное количество любви, сил и заботы. Мама у меня из Волоколамска, а папа из Чадыр—Лунги (сейчас это АТО Гагаузия). Я родилась уже в Москве, росла и училась там же, — но в гораздо большей степени меня как ребенка сформировала дача, которая находится недалеко от Яропольца, в Волоколамском районе. Много времени я по семейным обстоятельствам (уже будучи подростком) проводила в Мюнхене.
Родилась я в 1997-м году, — то есть в 2014-м, когда путинский режим аннексировал Крым, я училась в 11-м классе, и мне еще даже семнадцати не исполнилось. После школы я изучала новейшую русскую* литературу в РГГУ, а потом иллюстрацию и современную графику в БВШД. Занималась поэзией Григория Дашевского и влиянием Жирара на его тексты, защитила диплом о гендере в русской* поэзии 2010-х годов, читала все подряд и очень много рисовала, учила французский, латынь и немецкий. Но большую часть свободного времени просто бродила и шкандыбалась по улицам в полном опизденении, не понимая, что делать с собой, со своей жизнью, как расположить себя в мире. Как вообще жить, когда кажется, что ты в каждое следующее мгновение вдохнешь и сгоришь. И когда мир настолько очевидно и уверенно летит в пизду, отслаиваясь от реальности прямо на глазах.
Второй свой диплом (в БВШД), — большой многосоставной алтарь, собранный в костер, — я защищала уже во время пандемии.
Еще год после этого я прожила в Москве, работая иллюстратором на фрилансе, пытаясь собрать себя после очень тяжелого психотического эпизода и глубочайшего религиозного кризиса, которые разворотили меня и мою жизнь в щи во время пандемии. В свободное время я много рисовала, занималась живописью, участвовала в каких—то чудны́х коллективных проектах, делала какие—то странные объекты. Жесты, позаимствованные из недр бессознательного арсенала бесконечного пьяного стиля, — которые я и по настоящий день ценю куда выше, чем уже непоправимо институализированные медиумы современного искусства так называемого. Однажды я заварила свою живопись размером 140х200 см в заброшку на Бауманской, недалеко от Технического переулка. Или, вернее сказать, предприняла некоторые активные действия, которые случайным образом привели к тому, что она оказалась в этой заброшке заварена. Я при этом чудовищно долго над ней работала, несколько месяцев. Спустя несколько недель в одном чате девочки скинули мне фотографию, где эта картина валялась на куче песка около этой заброшки. Там началась стройка. Но когда я отправила своего бывшего забрать ее (сама я была в этот момент в Германии), выяснилось, что другая смена рабочих вернула ее в заброшку, и сторож не хотел отдавать ему эту картину, пока он не смог подтвердить, что происходит нечто правильное, и он отдает ее не кому попало. Это как бы ну такая странная коммуникация с миром, которую я всегда буду ценить в тысячу раз больше, чем то, что мы привыкли называть «искусством». Картину в итоге очень хорошо потрепали, она стала только краше. У нее даже пизда появилась.
Вот такими вещами я занималась очень много и до сих пор занимаюсь очень много. В свободное время я путешествовала по России и очень много читала, перелопатила кучу анархистской литературы, много читала про фашизм. Погоняло «анархоцаревна русского* поля штанов» появилось приблизительно в то же время, после того как я начала делать кокошники с ментами, гулять в них по городу, фотографировать в них разных случайных абсолютно людей. На самом деле оно мне само по себе не то чтобы супер важно, это просто такая шутка, которая не отклеилась. Впрочем, в кокошниках я до сих пор хожу, это для меня важная и сложная практика.
Летом того (2021-го) года я поняла, что мои отношения с Москвой окончены, и жить я в ней больше не могу. Это совпало с тем, что я довольно случайным образом поступила в ШВИ «Что делать». Мне была нужна срочная децентрализация, и я использовала поступление в качестве повода для переезда в Петербург.
Тогда же я впервые в жизни (реально впервые, если не считать дипломных, курсовых, сочинений и проч.) начала что—то писать, — что—то, что (наверное) было гораздо ближе к странной (чудно́й) прозе, а не к поэзии. Кстати, первый текст, который я выкладывала на сигму, я скорее тоже писала как ебанутую прозу, а не поэзию. В любом случае, тот самый первый текст остался и останется недописанным. А первый поэтический текст в своей жизни я закончила писать за две недели до 24-го февраля.
— Откуда у тебя появился импульс к письму, потребность в нём? Был ли момент, когда показалось, что что—то «щёлкает», и слова вдруг собираются в нужные тебе комбинации?
— Я была абсолютно одержима поэзией где—то с пятнадцати лет, но мне вообще никогда не приходило в голову писать. Я даже не могу связать эту одержимость с любовью к стихам, потому что стихи я читала именно как помешанная, заваливая себя ими через край. Мне очень близок тот подход к чтению стихов, о котором писал Дашевский в статье «Как читать современную поэзию». По Дашевскому, правильный читатель стихов — это параноик. Человек, маниакально и неотвязно думающий о какой то важной для него вещи, одержимый поиском ответа на некий «ключевой» вопрос. Например, заключенный тюрьмы, замышляющий побег: во всем, что его окружает, он видит средства для этого побега. Я искала радикального побега.
На самом деле, я очень хорошо помню первичный момент заязычного размыкания. Летом 2021-го я чистила память на компьютере и обнаружила в его недрах вордовский документ с письмом, которое я когда—то писала одному из своих бывших. Он назывался «письмо ****** о жизни». Когда я его открыла, я увидела всего одно недописанное предложение: «в этом маленьком домике где я тут пр». Я очень сильно смеялась, и в этот момент почувствовала, что писать можно вообще как угодно. При этом я сразу поняла, о чем это было написано, хотя спавшая в этом недопредложении мысль была невербализуема, и я совершенно не помнила, как и когда я писала это «письмо».
А потом, спустя несколько месяцев, я вдруг почувствовала, что когда я что—то пишу (близким людям или в приватный телеграм—канал, в котором я сама с собой переписываюсь), мне важно щелкнуть затвором письма так, чтобы слово кончило.
Так я начала использовать разные диакритические символы в переписках. Потом — шире: я начала использовать вообще все. Довольно скоро я почувствовала, что письмо как побег из тюрьмы (а еще точнее, — как прыжок в кроличью нору или как шаг в бездну) заработало.
С 2022-го года я в каком—то смысле пишу постоянно, но при этом часто не пишу вообще ничего. Мне вообще кажется, что имеет смысл писать настолько редко и мало, насколько это получается. Много чего остается от сношений с языком, в среде которых я более или менее постоянно хожу, сплю и живу. Это ну как в лесу среди сосен. Или возле мха. Или даже прямо в нем. Сами эти сношения, наверное, письмом скорее не являются. Со следами этих сношений, я, бывает, провожу какое—то большое время, а потом там начинает что—то происходить. Тогда может случиться большой текст.
Но иногда (если это короткий текст) бывает и так, что он разворачивается из одной строчки.
Есть и более простой уровень, который работает не только с письмом: случается так, что тебе нужно, чтобы появилось нечто, чего сейчас еще нет. И если никто этого не делает, а тебе это нужно все сильнее, можно попробовать сделать это самой и посмотреть, что из этого выйдет.

Страна дырявых приливов в сосновом лесу взрослой жизни
— Всем, очевидно, интересна твоя русскость, но ты себя (своего субъекта высказывания) описывала в одном из текстов как «гагаузскую девочку с варварским именем / немыслимой фамилией». Что значит быть «гагаузской девочкой» — это конкретная точка сборки идентичности в бывшей империи, как про тебя писали?
— Да, я бы даже сказала, что это ключевая точка.
На самом деле словосочетание «русские девочки» в названии моей книжки «русские девочки кончают свободной землей» — это не вполне словосочетание. Потому что в этой конкретной фразе эти слова не являются двумя разными словами, — и равным образом не являются одним словом. Они работают как сообщающиеся сосуды, или как вещества, которые вступают друг с другом в сложную химическую реакцию. После реакции они уже не могут быть равны самим себе как составным элементом. Особенно, если они кончают землей, пусть даже и свободной, — тем более, что из этой земли может расти и лесополоса тоже. Кончить там может каждая.
В 2023-м году мы с подругами запустили на радио «Асебия» передачу о русских* девочках. Во время первого эфира одна из них, соня триждысияние, сказала, что слово «русская*» и слово «девочка», — это вообще на самом деле одно и то же слово. Потому что слово «русская*» означает «лиминальная», и слово «девочка» тоже означает «лиминальная». В каком то смысле, эти слова лиминализируют друг друга до бесконечности, как зеркала, висящие друг напротив друга и бесконечно друг друга отражающие. Поэтому они способствуют преодолению идентичности, заменяя ее мнимую и насквозь фальшивую целостность дырой в душе. Пробитой грудной клеткой. Бездной.
Маркс считал, что революцию должен возглавить пролетариат, Маркузе ставил на студентов, а Гай Стендинг видел революционный потенциал в прекариате. После митинга «Он нам не Димон» некоторые мои друзья возлагали надежду на школьников: было видно, что они разозлены, и казалось, что им нечего терять, кроме своих цепей. Но у девочек даже нет цепей, потому что это самый лиминализированный слой общества, который не воспринимает всерьез вообще никто. Девочка гола как недополовозрелая сокольчи́ца.
В общем, отрывать слово «русская*» от слова «девочка» в названии моей книжки, — глубоко и сугубо неправильная стратегия. К тому же, русской* девочкой может при желании стать каждый (как и просто девочкой; я говорю о россии, потому что это пространство относится к зоне моей ответственности). И вообще, если человек (независимо от возраста, гендера или биологического пола) ни в какой момент не чувствовал себя тринадцатилетней девочкой, мне его жаль. Мне кажется, он тогда не жил по—настоящему. Ну или, как минимум, упустил в жизни что—то очень важное.
Я в целом вынуждена признать, что лично для меня задача становления женщиной абсолютно и бесповоротно провалена. Я не могу ни стать, ни быть женщиной, хотя у меня довольно часто получается стробоскопить женщиной, то есть в режиме какого—то ебанутого сверкания оной оказываться. Думаю, этим провалом я обязана сплетению в том числе и видимых вполне причин: детских эпизодов (например, растления и более поздних эпизодов сексуализированного насилия), физиологических особенностей (у меня до сих пор нет, и может быть, никогда не будет нормального менструального цикла; и вообще, половое созревание, по нынешним меркам, случилось со мной чудовищно поздно) и т.п. Да даже и политической ситуацией, в условиях которой я выросла. Но я не горюю по этому поводу и считаю, что мне очень повезло, — потому что мне удалось распутать какой—то клубок очень болезненных вещей (в том числе, связанных с взрослением в России) и через это распутывание выйти к очень большой свободе. В какой—то момент у меня стало получаться жить как Джелиза—Роза в «Стране Приливов» Терри Гиллиама — в России, в собственном опыте, в сосновом лесу взрослой жизни так называмой. И в какой—то момент я научилась занимать позицию духовного агрессора по отношению к насилию, которое пережила я сама лично. Тогда ветер подул в паруса, и мое «я» наконец превратилось в дырочку.
В общем, идентичность — это нечто фиксированное. Девочковую идентичность, строго говоря, вообще нельзя назвать идентичностью, — потому что лиминальность, напротив, является пространством перетекания, которое ломает все фиксированное. При этом «супротивоидентичность» девочки, конечно, подразумевает очень сильную уязвимость и хрупкость субъекта, — каким бы борзым и неуправляемым он ни был в явленное мгновение.
Но не стоит забывать и о том, что благодаря Льюису Кэрроллу мы знаем, что девочки — это на самом деле сказочные чудовища (см. сцену встречи Алисы с Единорогом, которая происходит в «Алисе в Зазеркалье«). Да, у девочек нет управляемой власти, — зато есть чудовищно обостренное переживание собственной и чужой смертности. В этой точке власть нельзя взять или накопить (иначе девочка перестанет быть девочкой и станет женщиной), но в ней можно бесконечно срываться, закатывать власти скандалы.

Когда девочка закатывает власти скандал, власть неизбежно (пусть даже иногда всего лишь на одно ебаное прекрасное мгновение) опростоволосится. И мир тоже хотя бы на одно ебаное прекрасное мгновение станет лиминальным. Это парадоксальная сила, которая иногда рождается из хрупкости. Девочка может лиминализировать весь мир просто самой собой.
Раньше я часто называла свой язык «экзорусским», но сейчас я думаю о нем как о своего рода медоедском диалекте русского* (а может быть, все еще экзорусского) языка. Медоед — это второе имя девочки в то мгновение, когда она решает закатить власти скандал (поскольку девочка — это лиминальная гендерная супротивоидентичность, можем обойтись и без феминитива). Но еще медоед — это абсолютно удивительное и волшебное животное из семейства куньих.
Это довольно маленький и коренастый зверек с очень смешной окраской. Выглядит он довольно нелепо, но при этом его боятся абсолютно все, — из—за его немыслимой (особенно, при его размерах) борзости и поразительного бесстрашия. Он свирепо и неутомимо доебывается до львов и гиен, которые, преодолев первичное полное недоумение, убегают в страхе.
(Большинство смешных видосов с медоедами на ютубе называются «медоеду вообще поебать»)
Такова Вера Засулич, стреляющая в Трепова, или Эмма Гольдман, хлестающая, — хлещущая, — Иоганна Моста нагайкой после предательства. Вдруг нежное, хрупкое и не обладающее никакой реальной властью существо, которое вообще никто не воспринимает всерьез, и на которое всем совершенно насрать, загорается праведным гневом и решает восстановить то, что оно полагает справедливостью.
И вот здесь оно застает власть врасплох.
Вообще, стратегия русской* девочки в этом смысле близка цзуй—цюань, — китайскому стилю боевых искусств, который также называют «пьяным стилем» (его я уже упоминала в начале интервью). Девочка, конечно, является естественно—пьяным существом: она пьяна переживанием собственной смертности и большой онтологической невыносимостью.
(И много чем еще)
Можно сказать и так, что прильнув к супротивоидентичности русской*девочки, субъект одновременно сбегает и от национальной, и от гендерной идентичности, — спрыгивает в бездну и от той, и от другой.
Теперь попробую ответить на твой вопрос о том, какую роль в моей «русской*» сборке играет именно гагаузскость.
В моем свидетельстве о рождении действительно написано, что мой отец — гагауз. При этом фамилия у меня настолько ебанутая, что она часто выступает определяющим моментом в том, как меня воспринимают незнакомые люди. Во мне сильно отпечатался ужас в глазах взрослых (учителей, врачей), с которым я начала сталкиваться гораздо раньше, чем вообще поняла, что такое фамилия, и какая досталась мне.
В детстве, когда меня спрашивали, откуда я взялась, я выдумывала разные немыслимые национальности и места, — потому что не очень понимала, что вообще происходит, почему именно мне задают этот вопрос постоянно. Почти все мои контакты с незнакомыми людьми начинаются с полного опизденения и пространного ответа на вопрос, откуда у меня такая фамилия, кто такие гагаузы, и откуда они вообще взялись. При этом я постоянно сталкиваюсь с тем, что даже некоторые из моих хороших друзей думают, что это псевдоним, а не настоящая фамилия. Меня даже пару раз просили паспорт показать. Узнавая, что это настоящая фамилия уже на второй—третий год знакомства.
То есть, в качестве русского* субъекта я произведена через удивление другого и чувство какой—то радикальной собственной инаковости в условиях абсолютной принадлежности. При этом я ебала национальные идентичности, и свою — особенно. Я думаю, все это вообще неинтересно. Как анархо—индивидуалистке мне кажется, что национальность — это полная лажа, а национальные государства, — лажа вообще конченая (как и все, связанное с государством).
Естественно, это не значит, что я не люблю и не ценю того, что включают в себя так называемые национальные культуры.
Но национальные культуры — это тюрьмы, в которые заперта свобода, заключенная в настоящем человеческом своеобразии и многообразии.

Если брать в качестве примера язык, на разных языках говорят не только люди, которые «говорят на разных языках», но и (часто) люди, которые выросли в одной семье. Такое случается, даже если у них общее детство и минимальная разница в возрасте.
Поэтому нет, конечно, никаких сомнений, что русский* язык, на котором говорят те украинцы и украинки, которые на нем говорят, — это вообще не тот язык, на котором говорят так называемые русские*(с гендерной звездочкой). И это относится ко всем русско*-язычным пространствам, и к самой россии тоже, к ее внутренним урочищам.
И не только потому что это очень большая страна.
В каком—то смысле, до тех пор, пока между людьми не случится сокрушительная близость, все языки общения — это на самом деле не языки вовсе, а пиджины.
Ну и мне важно подчеркнуть. Связанная с гагаузскостью «инаковость», о которой я говорила, существует только в глазах смотрящего. На самом деле, она не дает мне никакой настоящей особенности: я, как никто другой, знаю, что за ней не стоит абсолютно ничего, кроме пустоты. Вообще, мне кажется, пустота — ключевое понятие для идентичности, потому что идентичность нужна, чтобы заткнуть дыру в душе и как то привязать себя к этому миру, прикрутить к конкретному и понятному тебе месту. Но я не хочу быть прикрученной. И какая—то культура не может для меня быть более важной только потому, что я связана с ней через семью и благодаря ней у меня в свидетельстве о рождении написано очень странное слово, а мою фамилию никто не может с первого раза написать правильно. Зачем мне подменять живых и мертвых людей, через который я связана с Гагаузией, своими мифами, заслонять их в пользу своей национальной идентичности? Чтобы плодить о ней какие то занятные нарративы и мифологизировать себя? К чему это? Есть столько гораздо более удивительных и волнительных вещей. Любовь. Бог. Святой дух. Бесстрашие. Возбуждение. Голос. Шаровые молнии. Море. Страна приливов. Киты. И вообще все, что в мире есть соленого.
Можно очень долго перечислять.
Короче говоря, в этом мире есть очень мало вещей, которые настолько же не вызывают у меня интереса, как то, что люди называют выражениями «заниматься своими корнями», «раскапывать свои корни». К тому же я думаю, что корни на самом деле не являются корнями, а значит и раскопать их нельзя.
Да, для той точки, из которой я пишу то, что я пишу, моя гагаузскость оказывается важным моментом. С помощью разных идентичностных характеристик люди размещают тебя в мире, и с этим мало что можно сделать. Конечно, в отношении империи моя гагаузскость локализует меня очень конкретным образом, и я не просто отдаю себе в этом отчет, но и вовсю этим пользуюсь. Но если другие локализуют тебя, используя для этого идентичности, это не значит, что ты сам тоже должен это делать с собой. Вообще, очень многие вещи можно на самом деле просто не делать. Как в анекдоте про зайчика.
Но да, в этот момент становится важным и то, как гагаузы вообще оказались там, где они оказались, на что были похожи эти и прилегающие к ним места, когда все это дело входило в состав СССР, когда у гагаузов вообще появилась письменность, почему и в каких обстоятельствах регион получил автономию, и какая ситуация должна в мире сложиться, чтобы люди типа меня в 2023-м году называли себя русскими*. Я думаю, это в любом случае оказало сильное влияние на то, что я пишу, делаю и думаю, но не мое дело это концептуализировать, потому что на экзистенциальном уровне я стараюсь все, что может склонить меня в сторону идентичности, в себе передавить. Если говорить именно об идентичностях, выбрасывая вообще все остальное за борт, то и русская* идентичность в качестве идентичности меня не особо интересует, мне любая идентичность что зайцу курево. Меня гораздо больше интересует например голос.
— Где границы для тебя (или вообще) русскости* как (пост-) империи, что проглатывает всё вокруг, создавая нечто квази—единое и квази—цельное и русскости* как любовного проекта ? Где твоя Гагаузия, а где, к примеру, Якутия? В каких ты отношениях с русской* (пост-) имперскостью?
— В одном раннем интервью, которое молодой Бродский давал чуть ли не в первую неделю после того, как его выдавили из СССР, на вопрос, считает ли он себя советским поэтом, он дал такой ответ: «…но я думаю, можно сказать «советский», да. Вполне. Вполне. В конце концов, это, при всех там его заслугах и преступлениях, все—таки режим реально существующий. И я при нем просуществовал 32 года. И он меня не уничтожил».
У меня сложные отношения с Иосифом Александровичем, но эта оптика кажется мне очень точной и глубоко честной. Можно родиться в абсолютно отвратительном тебе режиме и прожить при нем всю жизнь (это, в общем то, мой случай: когда путин пришел к власти, мне было всего три года), ненавидеть его всей душой, противопоставлять себя ему и занимать противоположные позиции во всех абсолютно вопросах, но важно отдавать себе отчет в том, что тогда ты как субъект оказываешься сформирован этим режимом, может быть, даже в большей степени, чем те твои соотечественники, которые занимают нейтральную или куда более пассивную позицию. Это очень важно понимать. Потому что в условиях противопоставления себя какой—либо силе или инстанции всегда существует опасность, что эта инстанция превратится в конституирующего большого другого. А становиться рабом «конституирующего другого» очень опасно. И ни в коем случае нельзя позволять утянуть себя в «зачарованность» врагом, — ибо это верный знак того, что враг превращается в твое скрытое божество. На самом деле, ни одна сущность не достойна того, чтобы быть такого рода «большим другим» для человеческого существа, — кроме той, для которой есть слова «бог», «истина», «любовь», «свобода». Иначе это идолопоклонничество.
Важно стремиться к тому, чтобы сломать эту бинарную оппозицию, вырваться из нее, стать чем—то вообще другим. И ни в коем случае не забывать, что искушений вокруг все равно всегда навалом, их ни в коем случае не стоит недооценивать.
Поэтому мне, конечно, важно не только не скрывать тот факт, что я сформирована имперской культурой и имперским опытом, но и ради честности всячески это подчеркивать, как минимум для себя самой. Работать с ним напрямую. Это категорически не равно тому, чтобы иметь «имперские взгляды», — взгляды у меня абсолютно антиимперские, и вообще я анархистка. Но как субъект я являюсь субъектом империи. Причем очень сложной и комплексной империи, история которой носит тот же раскольнический характер, каким отмечено все в этой стране ну вот как минимум с момента никоновской церковной реформы. Речь не только о культуре; как я уже говорила, для того, чтобы человек вроде меня родился в 1997-м году в России и в 2025—м году говорил и писал то, что говорю и пишу я, нужно очень специальное стечение обстоятельств. И каждое из этих обстоятельств оставляет следы на душе, на личности. Кроме того, есть вещи, которые ты впитываешь как некую чувственную фактуру: тяжело расти в огромной и неповоротливой стране и не замечать этого нелепого и странного простора. Он тоже оставляет на душе и опыте человека психофизические следы. Мы живем с этим болезненным поцелуем простора, но это не значит, что мы обречены быть имперцами, — ведь у человека есть свобода воли и воображение. Бог сотворил человека, чтобы человек сотворил сам себя. И мы можем занимать какую угодно позицию по отношению к этому простору, несмотря на то, что мы им сформированы.
Россия — огромная, неповоротливая и очень странная страна. Но еще это страна, в которой очень легко потеряться. В ней полно дыр, через которые можно ускользнуть. В России очень богатая и древняя традиция ускользания от власти. Это одна из причин, почему у нас так плохо с демократией, — но зато хорошо с анархизмом.
(Важная ремарка: ускользание и эскапизм — явления разного характера. Эскапизм — это пассивно—конформистская практика, а ускользание — это сопротивление, которое может означать вполне конкретные действия. Например, ранние этапы работы «Земли и воли» с крестьянами, — это вполне конкретный и тяжелый труд, выполняя который землевольцы опирались на ускользание)
У Бердяева есть замечательная книжка, которая называется «Истоки и смысл русского коммунизма». Он замечает, что саму Россию и русский* народ можно характеризовать лишь противоречиями: с одинаковым основанием он оказывается и государственно—деспотическим, и анархически—свободолюбивым; склонным к национализму и национальному самомнению, но при этом распахнутым к всечеловечности и универсальности духа; жестоким и в то же время до болезненности сострадательным. В общем, по Бердяеву вот эти противоречивость и антиномичность исторически образованы вечным конфликтом инстинкта государственного могущества с народным инстинктом свободолюбия и правдолюбия. Народ искал нездешнего царства правды, и в огромном, — на костях построенном страшными жертвами, — государстве—империи этой правды не было. Поэтому из русского* народа (который по мнению Бердяева всегда был государственным) постоянно била какая—нибудь вольница.
В этом смысле честная и осмысленная работа с российским имперским опытом безусловно подразумевает работу с вышеописанной антиномичной структурой. Но никак не поглаживание взятой в качестве сферического коня в вакууме «имперскости» модными западными колониальными и имперскими теориями (которые тупо не подходят для описания и рефлексии российского опыта).
Отдавать себе отчет в этой антиномичности и критически принимать имперскость как один из ее структурообразующих факторов, — это гораздо более ответственная позиция, чем публично отрекаться от родной страны, или показательно ее из себя выкорчевывать, или заявлять, что имперскость можно и нужно из России полностью вычистить (как???), или требовать, чтобы все русские* люди молчали и ничего не делали, чтобы не распространять свое имперство дыханием. Это и более ответственная позиция, чем бесконечно каяться в имперскости, потому что когда ты придаешь ей такой стихийный характер и признаешь ее внеположность собственной воле, ты занимаешь дико пассивную позицию, в которой ты ничего не можешь и ни за что не отвечаешь. И даже более того, делаешь из этого воображаемого рокового проклятия божество, языческого идола. Начинаешь зависеть уже от него. В общем, нельзя сказать «имперство у меня в крови, я им дышу, и это важнее того, какие взгляды я исповедую и во что я верю» и выдавать это за ответственность. Это буквально самый радикальный отказ от ответственности из возможных.
Это очень субъективное мнение, но я правда думаю, что возможность существования «русского*» как «национально—характерного» уже бесповоротна уничтожена, и не последнюю роль в этом сыграло государство. Я этому, конечно, радуюсь, потому что меня бесит национализм и нациостроительство как таковые, они неизбежно заканчиваются резней, кровавой мясорубкой и застенками.
Ведь этот конкретный имперский опыт на самом деле не несет в себе выраженного национального характера. Он очень специфичен, — несмотря на то, что шовинизма в СССР было достаточно. В жерновах репрессивной машины Советского союза погибло множество русских* людей, вместе с грузинами и украинцами, но при этом и грузины, и украинцы тоже были среди тех людей, которые отдавали приказы. И в походе за советскую власть на Киев участовали и украинцы тоже. Поэтому на российский имперский опыт невозможно просто спроецировать западную модель колониализма, это просто ни к чему не приведет. Сейчас, конечно, не очень понятно, как об этом говорить и думать. В силу того, что Россия стала правопреемницей СССР, преступления советского режима сейчас часто пытаются «русифицировать», придать им задним числом национальный характер. Довольно стремно за этим наблюдать, потому что из такого переписывания истории в идеологическом ключе никогда не выходит ничего хорошего.
Границей между «пылесосной пост—империей» и «любовным проектом» является для меня сама любовь. Я не думаю, что можно причаститься какой то большой сокрушительной любви, и, будучи честным человеком, свободным от интеллектуальной трусости, хотеть для своей любимой страны имперского или колониального будущего. Это то же самое, что хотеть, чтобы любимый человек снова и снова брал на душу страшный грех, был опутан цепями этого греха.
Но конечно, все это я чувствую в реальности, в которой геополитика объективно существует, и с ней приходится считаться. Я знаю много людей очень разных национальностей, которые берут на себя «русскость*» похожим образом, и это их свободный выбор. И он работает только через любовь, поэтому, естественно, он никому не может и не должен быть навязан: те регионы и культуры, которые чувствуют, что могут раскрыться только через автономию и независимость, должны раскрываться через автономию и независимость. Не мое дело об этом думать или судить, — мне претит такая колониальная логика. О таких вещах вообще нельзя по—моему говорить единолично. Нужно слушать других людей, понимать их желания на чувственном уровне, учиться касаться их желаний своими желаниями. И делать видимым присутствие инаковости, чужести, в том числе и в себе, — это одна из причин, по которым использование расширенного алфавита является для меня в том числе и политическим жестом, причем не только деколониальным, но и феминистским.
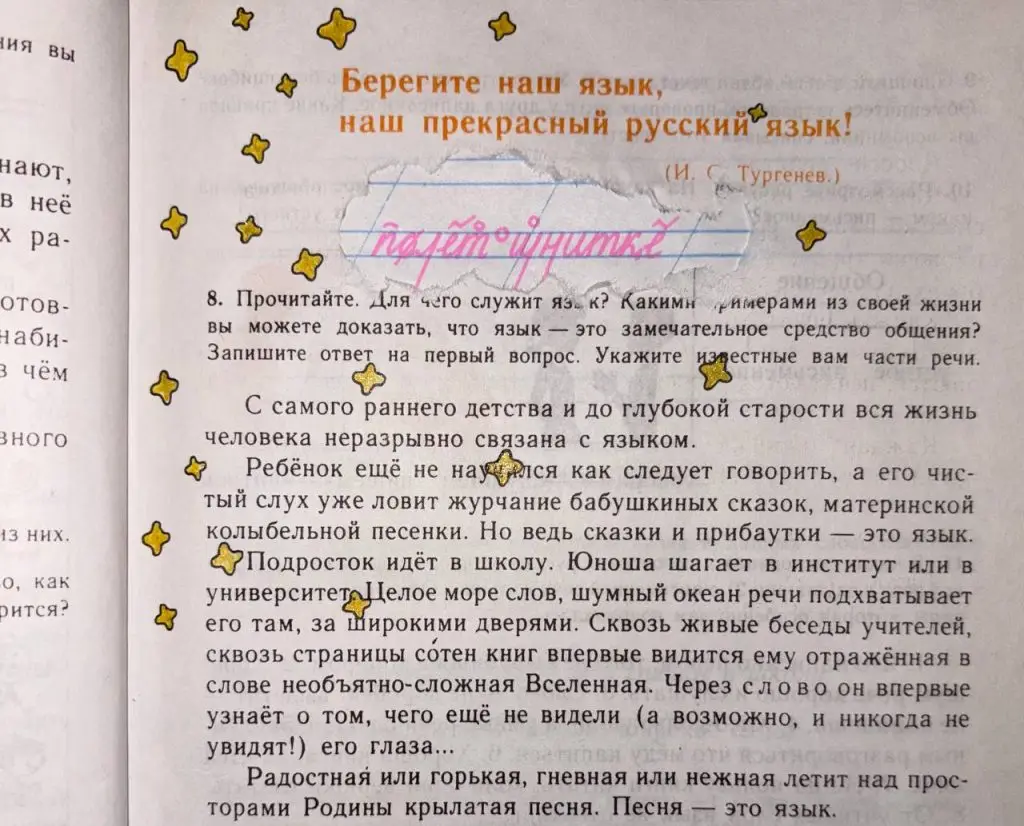
Пьяный стиль и медоедский диалект русского* языка
— Уже появилось несколько исследовательских интерпретаций того, что такое твой «расширенный алфавит» или же «экзорусский язык». Расскажи, пожалуйста, как он возник, ведь слава о нём уже идёт дальше тебя. В какой момент ты почувствовала «связь» с иными буквами кириллицы и нехватку в русском языке не только слов и лексики, но и букв?
— Я уже говорила, что сейчас мне ближе стратегия «медоедского диалекта», хотя от формулировки «экзорусский язык» я все еще не отказываюсь. В слове «экзорусский» корень «экзо» отсылает не столько к экзотизации (хотя и к ней тоже), сколько к экзоскелету. В биологии экзоскелетом называют внешний вид скелета у некоторых беспозвоночных. Он привел к скелетной революции, в результате которой многие организмы получили минеральный скелет. Экзоскелетом многих простейших и моллюсков является раковина, — поэтому «экзорусский язык» на смысловом уровне сплетается и с образом жемчужины, которая появляется из попавшей в раковину песчинки. Песчинка начинает раздражать тело моллюска, и чтобы справиться с этой болью, унять ее, он начинает оборачивать песчинку перламутром.
Так появляется жемчужина. Самое интересное тут, — что мы до сих пор не знаем, почему моллюск это делает: для того, чтобы унять раздражение, моллюску достаточно обернуть песчинку всего несколько раз. Но он почему то не останавливается и продолжает оборачивать ее с маниакальным упорством. Я думаю, это чудовищно точная метафора любви. И так оборачивает язык перламутром субъект речи, поймавший своим экзоскелетом будущую жемчужину.
Вместе с тем, экзоскелетом также называют устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих частей. Расширенный алфавит выполняет и эту функцию, служит «развитию мускулатуры аффектов», — если пользоваться формулировкой Бренера из предисловия к книжке: ведь «без освобожденных чувств нет свободных мыслей».
А нам ужасно нужны свободные мысли.
Мы, конечно, все сейчас в каком—то смысле являемся беспозвоночными, потому что позвоночник у нас украли. И под «мы» я вовсе не имею в виду «мы, русские*» — ведь украл у нас его не отдельно взятый путин, а вся система, частью которой он является, которая произвела его на свет в числе прочих гнусных вещей. Какой позвоночник может быть у людей, которые живут в обществе спектакля в условиях господства политики идентичности и неолиберализма?
Это, вообще то, не такие уж плохие новости: может быть, мы и являемся беспозвоночными, но у нас все еще есть шанс на скелетную революцию. А вот у тех, кто у нас позвоночник украл, вообще нет спины. Это гораздо страшнее.
В некоторых статьях то, что происходит с языком в моих текстах, называют «распадом», но я глубоко не согласна с этим определением. Я считаю, что у меня, наоборот, происходит расцвет, даже в самом прямом, тупом и примитивном смысле: было мало звуков и букв, а стало много. Сколько угодно. Были только согласные и гласные, а теперь есть несогласные. Был алфавит, построенный на пожирании и уничтожении других языков, а теперь он стал инклюзивным, способным включить в себя любое мыслимое своеобразие.
Для меня это очень личный момент. Как я уже писала, он связан не только с деколониальностью, но и с феминизмом. Но даже этими двумя оптиками причины его выбора не ограничены.
Как девочка, я всегда чувствовала, что я не могу войти в язык, не могу им пользоваться, что он мне не подходит. Язык, на котором мне с детства предлагали говорить, всегда находился под бдительным «отцовским» фаллогоцентрическим контролем.
В раннем детстве я столкнулась с очень физиологическим уровнем этой проблемы. Я родилась с аномально короткой уздечкой, которую родители почему то решили не подрезать в младенчестве. Мне подрезали ее только в пять лет, и к этому моменту моя речь уже представляла из себя настоящую катастрофу. Меня вообще никто не понимал. При этом я очень рано научилась читать, и по русскому*языку у меня были одни пятерки.
Я не выговаривала половину согласных и говорила предельно нечленораздельно. Недавно папа показывал мне детские семейные записи, на которых я впервые услышала свою речь в ее самом раннем варианте. Чтобы разобрать одну фразу, мне пришлось переслушивать кусок пять раз. Это было что то абсолютно немыслимое, ни на что не похожее. Вообще непохожее на русский язык. При этом я отлично помню, что до пяти лет я как раз чувствовала очень большую свободу в том, как я могу пользоваться языком.
После подрезания уздечки начались долгие и мучительные занятия с логопедом (букву «р» мне исправили в первый же год, но все шипящие я научилась говорить только в семнадцать лет). Мой папа всегда очень любил русский* язык и ужасно мучался, что не мог меня понять, и что я говорила хуй пойми как. Он очень переживал за меня, поэтому почти любой наш разговор до семнадцати лет был наполнен попытками мне помочь, поправить меня.
Кстати, интересно, что хотя мой папа вообще ничего не знает о логопедии, у него, кажется, есть довольно сильное чутье. Например, он придумал, что мне нужно говорить слово «лучше» через «т» («лутше»), потому что это снимает невозможное для меня произнесение двух шипящих подряд. я до сих пор говорю слово «лучше» через «т».
Со следами этого опыта под языком я живу, собственно, до сих пор. Когда мне важно сказать что то, но я не уверена, что хочу, чтобы мой собеседник опирался на произнесенные слова, я автоматически перехожу на этот детский регистр «каши во рту», и ничего не могу с этим сделать.
Поэтому традиционный алфавит я всегда ощущала как слишком маленький для своей речи. Там тупо слишком мало звуков, и он тупо слишком внятен (причем внятность эта абсолютна лживая, застящая глаза и рот). В том числе, для выражения предельной чувственности, крайней плоти языка, без которой я ощущаю речь слишком бедной, чтобы она могла быть возможной.
Пока я росла, я все острее ощущала, что этот контроль пронизывает вообще все, до чего может дотянуться. Не только звуки, но и слова, выбор слов, те смыслы, которые в них можно вложить, их употребление. Он вводит бесконечные иерархии, — в то время как я всегда хотела радикального равенства между всеми элементами и единицами речи, равенства между словами и звуками, равенства между звуками и предложениями. Когда у меня начались романы, я столкнулась с феминистским аспектом этой проблемы в очень грубом изводе: мужчины говорили мне, что я в принципе неспособна выражать свои мысли понятно, что со мной нужно специально годами учиться разговаривать, что я живу в своем мире, что я абсолютно непонятное животное, — и одновременно очень фетишизировали эту сконструированную ими самими загадочность. Это было довольно отвратительно. И это одна из главных причин, почему я после филологии ушла в рисование и искусство: там гораздо проще быть ебанутой и гораздо сильнее эта ебанутость поощряется. И там язык расцветает по ту сторону претензий на внятность.
В общем, я ужасно долго искала свой вход в язык, а пока у меня этого входа не было, пользоваться им желания не имела. Поэтому я так поздно начала писать. Дополнительные буквы я сначала начала использовать в общении с любимыми и близкими, в переписках. То есть здесь не было попытки «изобрести» какой то, прости господи, «новый тип письма». Все это произошло очень естественно.
— Ты говорила, что буквы твоего «расширенного алфавита» не только визуальный приём, но и семантический, который поддаётся расшифровке.
Что же насчёт фонетики слов? Они продолжают читаться с русской фонетикой? Или ты, при чтении, произноишь все твои буквы чужих кириллических алфавитов?
К примеру, в русском языке Казахстана казахские имена люди (даже плохо знающие казахский) произносят так же, как в казахской фонетике. Мөлдір произносится как Мөлдір, а не как «Мёльдыр». Что в твоём случае — одно из стихотворений называется: «i̯ ɃO Ҭ У M̥ Ȩ̛ԊЯ ѲϚT̯ ẦɅ̂ ИϚЬ ₮O ЉҜO ». «ѲϚT̯ ẦɅ̂ ИϚЬ» читается как «Остались» или как «Өстались»?
— Это так. Мне кажется странным использовать расширенный алфавит только «для красоты», — в то время как у каждой из этих графем есть свой заряд, который, если исходить из принципов алхимии, действует на читателя независимо от того, понимает ли он этот конкретный символ или может ли он прочитать его «правильно». Но это не значит, что текст можно «расшифровать», это просто совсем неправильноеслово. Расшифровка подразумевает, что есть некий конкретный смысл, что текст можно распутать как ребус, а мои тексты распутать в этом смысле нельзя, они не предназначены для распутывания. Хотя отдельные куски можно распутать, — но только проигнорировав альтернативные способы распутывания, которые приводят в совсем другие миры. Я использую этот алфавит исходя из того, что написанный с его помощью текст можно читать как угодно, а не каким то одним «правильным» способом. Можно писать как угодно, и читать тоже как угодно. Можно воспринимать только визуальную составляющую, но от этого расширенный алфавит не может стать исключительно визуальным приемом: если ты используешь алхимические элементы осмысленно (и неизбежно впускаешь незадуманное наравне с задуманным), какие то из них все равно будут действовать подспудно, чувственно. Даже если мы говорим об очень традиционной поэзии, она тоже может действовать на нас независимо от того, понимаем ли мы, что, как и почему в ней написано, независимо от того, анализируем и интерпретируем мы текст, или воспринимаем его чувственно. Когда я сама читаю любые стихи, мне как раз ближе чувственный подход, я не люблю интерпретировать, анализировать, раскладывать все по полочкам, считать слова. Хотя вру, считать слова я люблю, но с другими совершенно целями. Когда я пишу, я ничего в языке не использую случайно. Это, конечно, значит и то, что самой случайностью я тоже пользуюсь не случайно.
Один из самых главных сформировавших мои отношения с письмом текстов, — эссе Вальтера Беньямина «О языке вообще и о языке человека». Беньямин пишет, что язык есть всякое сообщение духовных содержаний, причем сообщение слов есть лишь особый случай сообщения. Любой язык, — немецкий, русский*, экзорусский или какой угодно другой, — ни в коем случае не является выражением того, что мы (якобы) можем посредством него выразить. Язык есть непосредственное выражение того, что в нем сообщает «себя». Это «себя» и есть духовная сущность.
Поэтому у языка нет содержания. В качестве сообщения язык сообщает духовную сущность, то есть сообщаемость как таковую.
В этом смысле язык, духовная сущность (и, конечно, то, как через них сияет бог), — для меня единственный настоящий другой, какой может быть возможен в письме. Расширенный алфавит позволяет мне применять к письму, языку и духовной сущности филоновский аналитический метод, — от частного к общему. Сообщение слов есть лишь особый случай сообщения. В этом смысле, убершпаннунг между буквами и звуками внутри слова ничуть не уступает убершпаннунгу между словами в предложении. Это работает и в обратную сторону: когда я (например) цитирую народовольцев, отдельно взятый соответствующий речевой акт является не только речевым актом, но и цельной графемой, или иероглифом. Все может работать как угодно.
Что касается орфоэпии, — я и тут изначально закладывала полную свободу в прочтении, и когда я читаю тексты вслух, я всегда читаю их по разному. Но все таки честным будет сказать, что конкретно эти тексты (из книжки) писались, в первую очередь, для чтения глазами (вслух или про себя — не так важно). Там ведь очень много и абсолютно нечитаемых элементов, и их нечитаемость тоже важна. Причем важна и как возникающая в чтении вслух преграда. Но редуцировать звук, используя графему, конечно нельзя, это невозможно.

Сейчас я очень хочу больше заниматься именно звуком. Хочу создать хотя бы один большой текст, опираясь исключительно на звучание, хочу впустить в язык голос как независимый элемент (насколько это вообще возможно). Развернуть эту историю в обратную сторону, в которой запись была бы сведена до прикладной функции, до транскрипции—партитуры. Посмотреть, что из этого получится.
Еще мне важно поправить тебя: в больших текстах составные части с заголовками являются не отдельными стихотворениями, а главами. Единицами целого текста (поэмы). Это важно и потому, что в условиях введения радикального равенства между речевыми единицами их тоже можно рассматривать и как очень маленькие элементы, и как очень большие. А вот исключать из текста как самостоятельную часть нельзя. В отличие, кстати, от строчек и слов. Потому что по—настоящему маленькие элементы могут обойтись самоуправлением, а большие — нет. И это тоже политический вопрос.
— Ещё один момент критической дискуссии по поводу твоих текстов был вопрос о Боге: в каком виде Он наличествует в тебе, в твоих текстах — как, прости Аллах, Большой Другой или как Объективный Всевышний? Кажется, это даёт повод осмыслять твои стихи в контексте религиозно—мистической традиции, что соотносит твою книгу с теми текстами, о которых не думают в первую очередь читатели — что ты об этом думаешь?
В прошлом году, когда я вправляла свой заязычный вывих, меня много месяцев изводил один вопрос: как мы понимаем, что действительно верим в то, что говорим? Этот вопрос может показаться абсурдным, но он имеет самое прямое отношение к той ситуации, в которой слово перестает быть всего лишь словом, — когда оно наполняется референтностью и живой водой, становится способным к чуду.
Я бесконечно перебирала в голове разные вещи, которые могут быть сказаны, и пыталась найти слова, которые можно было бы поставить рядом таким образом, чтобы они наполняли меня такой сшибающей с ног верой в сказанное.
И однажды я их нашла. Эти слова звучали так: «я верю в то, что бог есть, больше, чем в то, что есть я».
Это утверждение воплощает мое внутреннее чувство так, как ничто в этом мире не воплощает. Мне все в мире кажется абсолютно безумным, немыслимым, — от дождя до солености моря, от языка до собственного или чужого тела. Даже сознание того, что у меня есть лицо и колени, голос, сводит меня с ума. Как и то, что я могу в этом мире существовать какое—то время в качестве отдельного существа. Единственное, что может связать это заплывшее загадочностью безумие, утвердить его, стать связующем супротивобезумием — это то, что можно назвать богом. Бог — это все, что объемлет и впитывает в себя сочащееся из всего явленного в мир безумие и каждое новое мгновение преображает его в ineffable (невыразимый) замысел. Бог — это единственное, что способно связать все это безумие загадкой себя.
Поэтому я чудовищно верю в бога. Конечно, я верю в него очень своеобразным, раскольническим способом, но этот способ не существует в совершенной отвязанности от традиции. Просто он стоит на фундаменте очень разных и местами не самых очевидных текстов.
Я, честно говоря, не очень понимаю, как можно читать мои тексты в отрыве от мистической традиции, вне этого измерения. Когда я работаю с псалтирью или обращаюсь к богу, я делаю это всерьез. Не говоря уже о том, что все мое политическое абсолютно завязано на отношениях с богом. Если его оттуда вынуть, ничего не останется, кроме мусора.
Долгое время мне казалось, что это главная проблема моих текстов, — я думала, что они не будут работать для людей неверующих. Но оказалось, что это не так. Это чудовищно загадочная штука, я не могу себе представить, как они эти тексты читают.
Но упомянутая тобой критическая дискуссия, вернее, тот ее эпизод, который имел в виду обличать в боге в моих текстах «персонажа психологического мира», честно говоря, поставила меня в ступор. Мне очень печально, что критика, имеющая в виду, что она «левая», использует чудовищно консервативную и традиционалистскую аргументацию, — в частности, утверждая непримиримость и невозможность сосуществования бога и раскрепощенной сексуальности. Это не только не соответствует тому, что говорится о любви в священных текстах (ведь они никогда не запрещали секс, они предостерегали от секса, в котором нет любви), но и полностью игнорирует тот факт, что раскрепощение сексуальности в моей книжке очень четко локализовано по отношению к блуду, противопоставлено ему. Об этом сказано настолько прямо, насколько это возможно сделать в поэзии, и это моя сознательная позиция. Я думаю, что в сексе, в котором нет любви, не может быть и свободы.